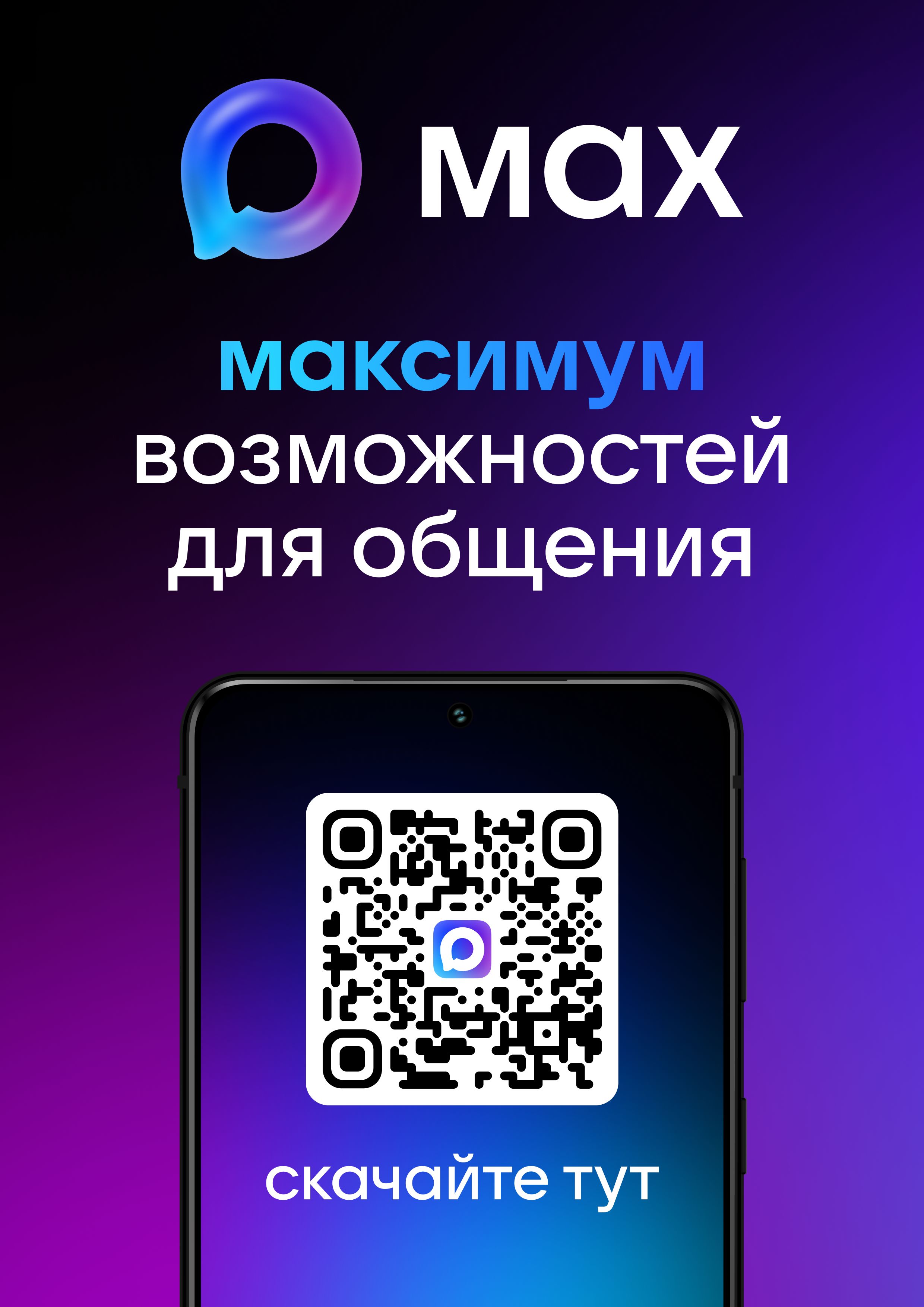Интервью
фотогалерея
На Ключищинском косогоре

Вьюжило, и я с беспокойством посматривал в окно автобуса, который, фырча, миновал Городищинский мост через Сундовик, преодолел пологий подъём, и показалось поле родной стороны, Теплихинский лес. Я приподнялся и, попросив водилу остановиться, вышел наружу.
До родного Ключищинского косогора оставалось километра три, и это расстояние в погожую погоду и по хорошей дороге я преодолевал за полчаса, а бывало и быстрее, если ускорял шаг. Но сейчас дороги не было, и я пошёл полем напрямик. Там, куда я шёл, меня никто не ждал, ибо селения уже не было и никто здесь давно не жил. Остались на косогоре четыре избы, одна из которых была моей, где я родился и вырос. И теперь шёл проведать её, да поклониться родным могилам.
Идти было нелегко. Вьюга вязала ноги и драла лицо. Росли полевые звуки, в ушах звучала непонятная музыка, с которой сливалось и поле, и небо, и я сливался, и вьюга, и слышалось что-то удивительно музыкальное, как будто прорвалось сквозь годы и ветер волшебная музыка, напоминая неблизкий летний день, тени стогов, колёсный скрип телег на августовской дороге. И почему это показалось именно сегодня, в такой неласковый декабрьский день?
Родная сторона всегда навевает воспоминания при встрече. И уже никакая сила не может их остановить. Вот оно – августовское поле. Я, совсем ещё мальчишка, стою на крутой клади и подаю снопы деду Гавриле, виртуозу своего дела. Пот льёт с меня ручьём, устал, а бросить дело нельзя. Снопы беспрерывно подают с земли, не зевай, крутись. Это было в войну. Мы — мальчишки — помогали своим матерям убирать с поля хлеб, ведь мужчины все были на фронте. Подвод в колхозе не хватало. Снопы носили вручную на носилках, скирдовали и ночью. Силы таяли, глаза слипались, но работу не бросали. Старались до белых мух всё убрать с поля...
Память выхватывает из жизни эпизод за эпизодом. Где-то в глубине души пробуждается в сердце босоногий мальчишка с удочкой на плече, в руке связка пескарей. Река тогда была многоводной, и рыбы в ней водилось много. Гордясь уловом, быстро вступаю на крыльцо, подымаюсь по скрипучим приступкам…
Горит красноватая лампа, мама месит тесто в квашне, раскладывая его в железные чёрные тазы. Хлеб на сей раз не из картошки, а из овсянки с шелухой, дали в колхозе по 200 граммов на трудодень.
Вот мама и пекла из него хлеб, от которого драло во рту, и в горло он не лез. Толкнёшь в рот силком, есть то хочется, да и то этой овсянки не всем хватало. Обделённые негодовали, а Антонина Седова схватила пустую котомку и давай ею хлестать по лицу бригадира Ивана Ерёмина…
Аменя сейчас «хлестала» метель. Ноги в лёгких башмаках чувствовали холод. Накануне было тепло (не привык в городе кутаться), потому и пустился в путь налегке. И чтобы согреться, пошёл быстрее, но метель сдерживала мой быстрый шаг. Не ожидал я, что родная сторона встретит так неласково, словно и не свой стал, чужой. Ведь теперь здесь не живу, а приезжаю сюда гостем. Сторонка родная, ужель не узнаёшь? Я же это, Колька… Помнишь, как я пас стадо овец возле реки в Бокалде (в тот день была наша очередь пасти), а волк утащил у меня тогда ягнёнка?! Подкрался, стервец, и унес. Я заметил серого, когда овцы сбились в круг – голова к голове. Волк бегал по кругу, неся ягнёнка на спине, а рядом с ним поспешал волчонок. Я бегал за ними, кричал, махал руками, запыхался, из глаз брызгали слёзы. Помнишь? Как я бегал здесь, где сейчас шёл, да где уж там было тягаться с быстрыми зверями. Эх, сторонка родная, каждая встреча с тобой – праздник! Слышишь, милая, не лукавлю я. Прекрасна ты, как и твои люди, чьи лица – подобья русских песен.
Показалось кладбище на бугре над рекой. До бывшего родного селенья было рукой подать. Я встал у сосны, оглядел занесённые снегом могильные холмишки. О чём только не думалось тут. Но почему-то мысль сводилась к одному – ты стоишь на проволоке, перекинутой через ущелье: миг, пошатнулся и … каюк. Затем виделся обрыв, просто яма глубиной метра два. Кресты в темноте походили на людей, растопырив руки, расставив в сторону ноги. А может это, в самом деле, люди – безмолвные, окутанные тайной, сколько их? Не счесть. И были ли они? Были … Вон, там, я шагнул вперёд, могилы деда, бабушек, мамы … А вот деда по материнской линии, Ивана, здесь нет. Погиб в четырнадцатом году прошлого века на полях Первой мировой войны, защищая славян, где-то в Галиции. Нет и могил отца, и его братьев. Схоронен отец войной, неизвестно где… Последняя весточка от него – открытка с фронта была из города Волоколамск Московской области:
«Здравствуй, дорогая мама. Шлю я тебе свой горячий сыновний привет и лучшие пожелания в твоей жизни. Я знаю, что Вы, мама, переживаете обо мне. Не расстраивайся, милая моя, родная и лучшая на свете. Всем сейчас трудно. Но нужно держаться, и стойко переживать трудности. Как говорится, терпение и труд – всё перетрут. Есть ли от брата Вам какой-либо ответ. Где он? Белорусский город Молодечно, где он служит, рядом с границей находится. Гитлер туда первым делом попёр, да только, наверное, обломал свои зубы-то о нашу силу.
Передавай привет моей Нюре, Коле, Зине и малышу Толе. Мама, не забывай ребятишек-внучат, хотя Вы всегда с ними, помогаете.
Ещё раз прошу, не беспокойся обо мне. Я призван защищать Родину, наше Отечество, которое у меня в груди, как и ты, мама. Фашистов мы скоро разобьём и вернёмся с победой. Вот тогда и встретимся, и заживём дружно и хорошо.
До свидания. Обнимаю и целую, Ваш сын Виктор.
17 июля 1941 года».
Больше вестей от отца не было. Только через некоторое время пришло печальное известие, что рядовой Офитов Виктор Михайлович пропал без вести. В это не верилось. Как пропал и где? Этот вопрос до сих пор остался без ответа. И таких, как отец, пропавших без вести на полях войны – не перечесть.
И сердце сжимается от боли, а душа скорбит за всех убитых и пропавших без вести рядовых войны, кто спасал своей жизнью Родину от захватчиков. Память о них занозой сидит в сердце.
Тихо подошёл я к могиле бабушки Пелагеи и деда Михаила. Холода уже не чувствовалось, тело привыкло к нему. Мысли, по-прежнему, вертелись вокруг войны и троих бабушкиных сыновей, которых у неё отняла война. Младший сын погиб во Львовщине в бою 22 сентября 1944 года. Похоронен там же. Шёл ему 21 год. (Первый парень на селе, лучший гармонист).
Уходя на фронт, сказал:
«Колька, жди меня…»
Проглядел я все глаза,
Ту войну кляня.
Дядя воевал в гвардейской стрелковой дивизии, сержант. Награждён медалью «За отвагу». В похоронке извещалось: «…погиб смертью храбрых, защищая Советскую Родину…»
После, перечитывая его письма к матери, со штампом «просмотрено военной цензурой», я задерживался на последнем:
«Мама, ты пишешь, что жизнь у вас идёт нормально. Все живы, здоровы. Рад слышать. Но вот насчёт того, чтобы я осторожничал, скажу, что это нельзя. Поверь мне, как сыну, и прости, мама, не могу этого сделать. Война есть война, а я – русский солдат, и если начну думать только о спасении своей шкуры, то буду самым последним негодяем. Понимаешь, родная, не могу я скрываться за других, чья кровь обагряет нашу землю. И если за неё придётся погибнуть, то погибну в бою, но врагу спуску не дам, не на того напал. Писать кончаю, иду в бой… Не переживай за меня и не горюй, мама! Помни, что я – русский солдат и не боюсь умереть за Родину, за всех живущих, за Ключищинский косогор, так благоухающий весной сиренью с птичьим пением. И ещё хочу сказать, что очень хотелось бы дойти до гитлеровского логова…
Сергей Офитов».
По земле катился сорок четвёртый – год мощного наступления Красной Армии по всему фронту. Мы жадно ловили любую весть о победах нашей армии и радовались, что скоро придёт конец войне, принесшей нам столько горя и страдания, холода и голода. Нынешнему юному светлому поколению трудно представить наше военное детство. Оно было холодное, голодное, разутое. Да, разутое. Ни обувки, ни одежды. Пришло время идти учиться в школу, а не в чем. До седьмого класса я ходил в балонных калошах (из камеры машинного колеса) и в шерстяных носках, связанных мамой из овечьей шерсти. И это летом. Ботинок не было, и купить их не было денег. Долгое время донашивал фуфайку с бабушкиных плеч. Начальная школа находилась в совхозе – около километра хода. А вот в среднюю школу приходилось ходить в Большое Мурашкино. От Ключищ туда считали семь километров. И я, каждое утро, вставая чуть свет, проделывал это расстояние каждый день в любую погоду.
Как давно это было. Но видится ясно, как иду от своего дома через овраг полем, минуя деревню Тыново, спускаюсь с горы к мельнице, затем спешу луговой тропой по берегу Сундовика, чтобы не опоздать на урок… Деревянная школа стояла на лугу, на берегу Сундовика в окружении деревьев. Несмотря на нужду, это была весёлая пора в моей жизни. А какие здесь были прекрасные учителя! Николай Павлович Гладышев, чета Козловых — Нина Александровна и Юрий Васильевич, Ольга Дмитриевна Огнёва, Александр Васильевич Архангельский, Таисия Павловна и Анатолий Николаевич Чехловы, славная чета Карпенко, Зинаида Васильевна и Андрей Васильевич, Григорий Иванович Лунин…
Они передавали нам хорошие знания по своим предметам и о жизни. Знали, чем дышит ученик и чем живёт.
Здесь, в родном Мурашкине, я делал первые шаги в журналистику. Но это будет потом, когда вырасту, пойду в люди…
Помню, как в начале сентября я возвращался домой в Ключищи. Хотелось страшно есть. Саргашку и хлеб – вязкое сырое картофельное месиво, в котором муки было, наверное, пятая часть, а может, и этой не было, я съел на перемене. От такого хлеба тошнило. Но голод – не тётка, ел. И однажды уже за Тыновом, свалился у кромки поля, тут почему-то остался не сжатым его угол, где я и оказался.
Очнулся, чувствуя, что кто-то щекочет меня по лицу, а в ноздри лезет запах хлеба. Я глотал его и не мог наглотаться. Он вливал в тело силу. Я приподнялся, сорвал несколько спелых колосьев (это они щекотали меня и от них исходил спасительный запах настоящего хлеба – запах жизни), вышелушил и проглотил. Потом ещё и ещё…
Вскоре я стоял на ногах. Ароматный, тёплый запах настоящего хлеба обволакивал и ласкал, и было хорошо, и сладко. Не зря же говорится, что хлеб – всему голова. Без хлеба – смерть, хлеб – дар Божий, батюшка, кормилец. Он — хлеб, впитав в себя силу земли, отдаёт её нам, людям.
Вот такое нахлынуло в памяти в этот зимний день, когда я стоял у родных могил, вспоминая отца, дедов, маму, бабушек… Войну проклятую, с которой не вернулся и средний сын бабушки Пелагеи – Валентин. До службы в армии он учительствовал в Дальнем Константинове. С самого начала войны, как в воду канул. Только после войны его товарищ из Подмосковья, освобождённый из фашистского концлагеря нашей Красной Армией, писал:
«…познакомились мы с Валей в ноябре месяце 44 года. Спали мы с ним вместе: я на верхней койке, а он на нижней. Почти до нового 45 года был он ничего, держался, а потом стал худеть, и 17 апреля 45 года он умер. Мамаша, Вы спрашиваете, что он говорил перед смертью? Много говорил. Всё он меня будил по ночам в горячке. О Вас, мамаша, вспоминал, о селе, о школе всё бредил – учитель был ведь. Однажды он сказал охранникам, что Красная Армия победит Гитлера, конец ему скоро будет… Ох! Как они тогда Валю били, эти гады. Долго не вставал, всего измолотили. А человек он был стойкий. Мужеству нас, пленных, учил. И очень уж он человек-то был душевный и добрый. Любил я Валю, ох и любил.
Как похоронили? Не хочется об этом и рассказывать. Умер человек – раздевают догола и в подвал бросают. Накопится там человек сто и более, и тогда приезжает машина – всех грузит, как снопы, голых, а сверху чем-нибудь накроют и всё. И повезли к яме. А ямы такие – 500 м. длины, 2 м глубины, и туда сваливают в три ряда друг на друга. Вот и все похороны.
Всего Вам, мамаша, доброго в жизни. Если что ещё интересует – пишите. Отвечу.
Исаев Н.В.»
Вот так сыновья бабушки и не вернулись с войны. А она всё равно ждала. И когда весной появлялись цветущие одуванчики, долго смотрела на них и шептала про себя: «Витенька, Валенька, Серёженька …» А мне казалось, что она видела в одуванчиках своих сыновей, превратившись в другую ипостась. Они стали просто землёй, травой и цветами и дают нам знак, что они с нами. И желают только одного, чтобы мы жили в ладу. Ведь за нашу жизнь заплачена очень дорогая цена.
Смеркалось, день-то в декабре короткий, да и метель сгущала тёмные краски. Я прислонился рукой к кресту материнской могилы, и будто воочию увидел многотрудную жизнь вдовы – солдатской. Много горя и страдания выпало на её долю и на долю её товарок. Но они выдюжили. Жили ради нас, с пользой для Отечества, себя не жалея. За свою жизнь они не нажили добра, несли добро в людские души. Совестливые, святые были. Прост их быт: стол, сбитый из досок, скамья, горшки, ухваты у печки и, естественно, самовар. За двором – огород, банька – по-чёрному. На богатство не зарились, был бы хлеб на столе. Помню, как бабушка говорила: «Не делай того, что не принимает твоя совесть, и что ей противно, согласуй, что говоришь только с правдой…» Не потому ли понятие чести и справедливости было нам, пацанам деревенским, знакомо с детства, и прививалось это с молоком матери.
Думая о своих родных, односельчанах, которых запомнил, я чувствовал, как светлела при этом душа – этих праведников и рыцарей духа, учивших тебя добру и любви к ближнему. Жили по Божьим Заповедям и ставили во главу всего добродеяния. Это были бескорыстные люди. Вот с кого надо брать пример, как делать жизнь.
За думами я и не заметил, как стихла метель, и стало светлее. В снежном мареве стояли кусты сирени и акации. Тонкий снежок висел на сосновых ветках.
Окинув взглядом ещё раз могильные холмики, я пошёл к своему дому. Вокруг меня простиралось белое безмолвие. Вот здесь, становясь у крутого бугра, мы скатывались вниз к реке на лыжах, и на санках катались. И это было здорово! Столько было шума, веселья… И невольно захотелось вернуться в то время, когда разогнавшись с горы, паришь, как птица в воздухе, перелетая через Сундовик на другой берег. Лыжи были с ремёнными креплениями, и чтобы они не соскакивали с ног, привязывали их чем могли к валенкам. Конечно, случалось, падали, набивали себе шишки и синяки. Всякое бывало. Но это была весёлая пора в нашей мальчишеской жизни.
Зимы тогда были многоснежные, морозные, не то, что ныне – слякотные, бесснежные. Бывало, дом мой полукаменный заносило снегом по самые окна. Заметало входную дверь с фасада так, что нельзя было выбраться на улицу. Приходилось лопатой прорубать в снегу выход наружу. Вот такие были зимы в моём детстве.
Не без волнения подходил я к отчему дому. И чем ближе подходил, тем сильнее стучало сердце, а за ворот пальто пробралась дрожь страха. А вдруг за дверью притаился кто-то нехороший… В голову лезли неприятные мысли. Такое бывает, когда начинаешь внушать себе нечто подобное, отчего мурашки бегут по коже. Да кто может быть сейчас здесь? Мыши, и те, наверное, убежали туда, где есть корм.
Посмотрев на кусты сирени и деревья, шагнул на крыльцо, толкнул дверь, она заскрипела и открылась, поскольку была не заперта. На замок запирать её было бесполезно, всё равно сломали бы, как случалось раньше, когда запирали на все замки, а их выдирали. Перекрестясь, поднялся по скособоченным приступкам наверх и, подавив в себе страх, резко открыл дверь в избу, а вернее, в своё детство. И сразу повеяло чем-то родным, близким, дышало уютом соскучившихся по тебе до боли милых стен. И ещё казалось, что я вижу всех своих родных… Тут они, вокруг тебя витают их души, не скрывая своей радости от встречи.
В избе было темно, и я жалел, что не взял с собой фонарик. Но и без него я ориентировался здесь хорошо, так как знал, где что лежит, где нужно нагнуться, чтобы не удариться головой. Первым делом сбегал на ключ за родниковой водой. Потом протопил печь, согрел в старой кастрюле воды, съел булку и долго сидел у окна, вспоминая жизнь родного древа.
Спать лёг на печи, где спал в детстве, постелив на горячие кирпичи своё пальто, так как больше постлать было нечего. Во сне мне снился отец, с которым мы шли за плугом, готовя почву под сев, над полем звенели жаворонки, затем я оказался на лугу, где шёл сенокос, и скакал на лошади, чтобы доставить очередную копну сухого сена к месту его стогования …
А когда проснулся, было уже светло. Спустился на холодный пол, поёжился от холода. За ночь тепло из худой избы улетучилось быстро. Вдруг в окно стукнула клювом невесть откуда прилетевшая синичка, и я, рассматривая её, улыбнулся.
Николай Офитов
Март 2015 г.