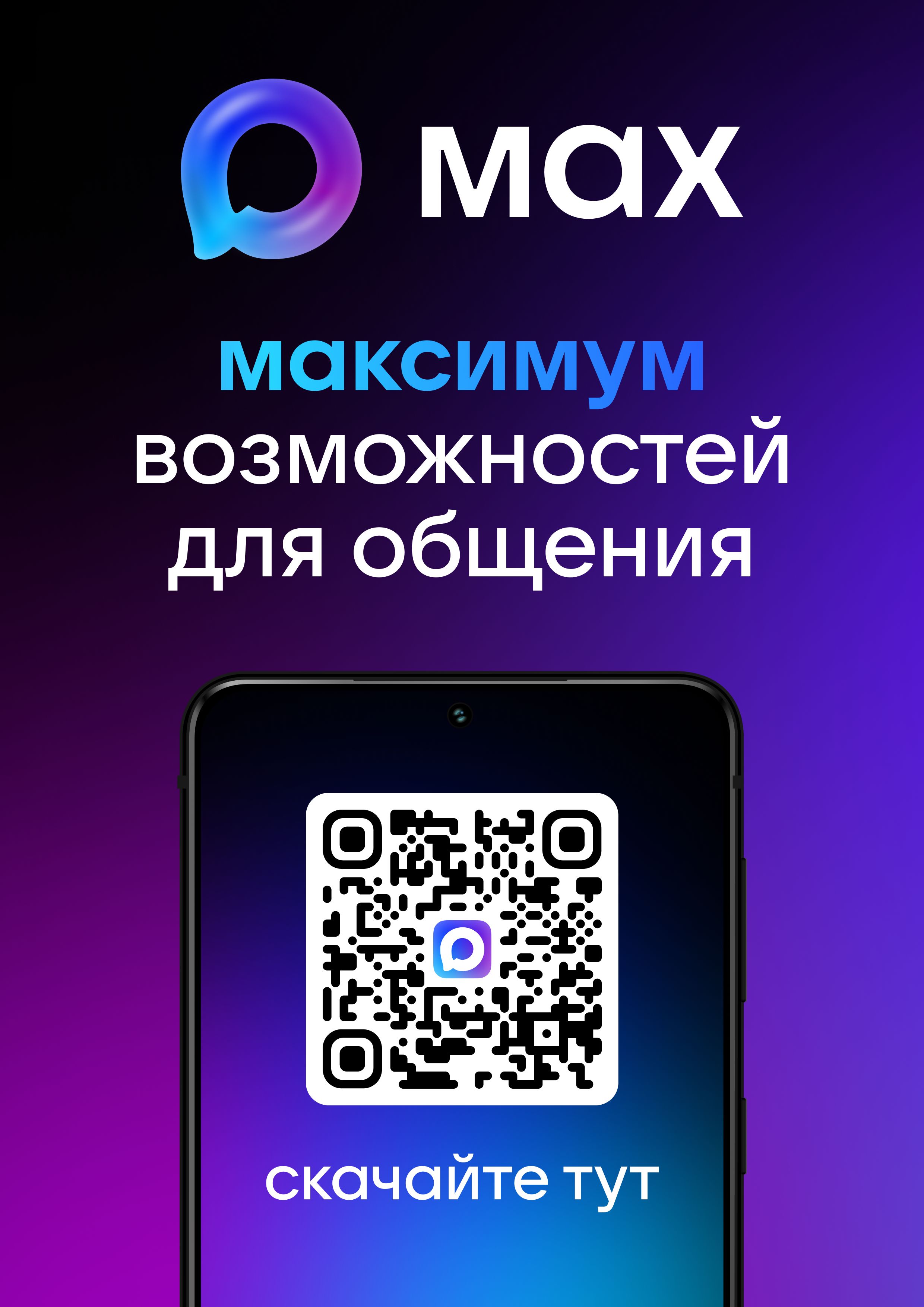Интервью
фотогалерея
Достойны самых великих памятников

Как подумаю о том времени, когда одна за другой приходили в село похоронки с фронта, становится страшно до дрожи. Перед глазами встают зарёванные женщины — солдатские вдовы, русские бабы, взвалившие на свои хрупкие плечи все тяжести жизни в тылу, где, по существу, проходил второй фронт, без которого не было бы победы на первом. Стоят они и держат трясущимися мозолистыми руками похоронки на серой бумаге, в которых, как под копирку, сообщалось, что ваш муж или сын, проявив геройство и мужество в борьбе с фашистскими захватчиками, погиб в бою за город... или посёлок... Похоронен... Выражаем соболезнование — и так далее…
Похоронок боялись, и завидя подходящего почтальона, людьми овладевало беспокойство, какую он принёс весть сегодня: хорошую или плохую. А тот, уже вкусив по горло чужого горя и вдовьих слёз, сам был не рад вручать казённые конверты с печальными известиями, поэтому, прежде чем отдать адресату похоронку, старался всячески тянуть время с её отдачей. То посмотрит куда-то вверх, то ненароком оглянется, скажет, как сходил на почту в райцентр, кого там видел, спросит о здоровье, о детях, и, конечно, о войне говорил, о храбрости наших солдат, самому-то, мол, не довелось туда попасть — глаза подвели. А сам всё держал руку в почтовой сумке, не решаясь её вынуть наружу, зная, что сейчас польются слёзы...
Почти та же самая картина была и в тот раз, когда он появился у нашего дома. Я только что пришёл с реки с уловом, и на крыльце встретила меня бабушка.
— О! Сколько ты поймал! — удивилась она. — Хорошая уха будет.
И всё рассматривала пескарей и плотву с окуньками, висевших на кукане.
— Клёв был хороший, только успевал закидывать леску — поплавок тут же тянуло ко дну.
— К хорошему рыбаку рыба сама плывёт, — проговорил почтальон. — На уху-то дашь?
— Не жалко.
И я стал снимать с кукана рыбу.
Но почтальон, всё ещё держа руку в сумке, неотрывно смотрел на бабушку и как мерин переступал с ноги на ногу, начиная разговор издалека.
— Да ты, Василий, не тяни резину, — сказала она. — С чем пришёл, выкладывай?
— Тут вот, — рука его, державшая что-то в кожаной сумке, слегка дрожала, как и голос. — Письмо какое-то.
— Доброе, аль плохое?
— Не знаю, мне чужие письма читать не положено.
А сам уже знал, какую весть принёс. И судорожно порывшись в сумке, протянул бабушке Пелагее серую казённую бумажку, свёрнутую треугольником, а она — мне, поскольку читала по слогам лишь крупный шрифт и с помощью очков.
— Прочитай, внучек, сама-то я не разберу.
Вся напряглась, словно чувствовала, что письмо это не с доброй вестью. Ведь принося обычное письмо, почтальон вёл себя иначе, не крутился, был весел, плясать просил. А тут ходил вокруг да около, словно он был виноват, что принёс горькую весть, которая, как пуля, может убить.
Развернув листок, я молча пробежал глазами по печатным строчкам и остолбенел, споткнувшись на слове «погиб...». Передо мной поплыл туман, и сам я, казалось, плыву вместе с ним, не понимая куда. И вдруг, всхлипнув, стал задыхаться, будто кто-то меня душил, впиваясь в худенькую шею острыми когтями.
Из глаз брызнули слёзы. Заливая лицо, они впитывались в рубашку и, обжигая, капали на мои босые ноги.
— Что с тобой, Коленька? — бабушка с испугом потянулась ко мне.
Так громко я ещё не плакал и потому не слышал её. Пред глазами плыли мутные круги, а облака казались грязными простынями. Моё сознание не мирилось с реальностью и с пришедшим горем — дядя, мой любимый дядя Серёжа убит на войне, нет его. Но мы же с ним гуляли... Он играл на гармошке.
С дядей мы рыбачили, делали скворечник, он сохранился и висит на липе, только я обновил его верхнюю крышку, которая трухлявой стала, а так скворечник целёхонек, и скворцы каждую весну прилетают в свой домик. Перед войной дядя Серёжа работал после ремесленного училища каменщиком в Горьком. Имел бронь, от которой отказался, и ушёл на фронт.
Моё оцепенение от свалившегося горя исчезало медленно. Лицо от слёз было мокрым, и я вытирал его рукавом и подолом рубашки. Бабушка сидела на лавке, и плач её нёсся по всему ключищинскому косогору. Глядеть на неё было больно.
— Ироды проклятые эти фашисты! Серёженька... Не для бойни тебя растила...
К дому подходили вернувшиеся с поля сельчанки, и узнав, что случилось, переживали вместе с бабушкой и успокаивали, как могли. И все проклинали чудовище — войну и тех иродов, кто её развязал.
День уже клонился к вечеру, а бабушка словно застыла, продолжая сидеть на лавке. Слёз уже не было — выплакала. Стояла тишина. Ветер стих. Но в воздухе появилась какая-то туманная дымка, и она, как показалось, своей мокрой тряпкой стала протирать серые облака. За домом, в огороде, краснелись раздутыми щёчками яблоки.
Краснели и рябина с калиной, являя собой зазеркалье чудес. Вечер незаметно переходил в ночь, и в её чёрные косы звёзды вплетали яркие банты, а луна ныряла за рваные тучи. И тут туманная дымка вдруг стала рассеиваться так же быстро, как и пришла. Бабушка продолжала сидеть. Я находился возле. Не уходили и соседки, разговаривая о житье-бытье. И все их разговоры были связаны с войной. Наконец, бабушка поднялась, медленно добрела до постели и грохнулась пластом, не раздеваясь. Лёг и я.
Спал беспокойно, воро-чался с боку на бок, вскакивал под бабушкины стенания и всхлипы, и ночь моя почти прошла без сна. А утром услышал мамин голос: «Я ухожу в поле. Ты будь с бабушкой, помогай...». А у самой голос дрожит, наверное, переживала за бабушку…
Бабушка встала вскоре после ухода мамы.
— Я всё слышала, Коленька. Ты помоги мне налить воды в рукомойник. Умыться хочу.
Её пошатывало, и она всё щурилась, держась за стены. Подошла к ведру с водой, стоящему на скамье, зачерпнула ковшиком и жадно пила, будто её мучила жажда.
— Пойду на улицу, а то тут что-то душно, — сказала она.
— И я с тобой.
И мы спустились по лестнице. Было тепло. Пекло солнце и от яркого света слепило глаза. Той твёрдой и быстрой походки, какая была у бабушки, нынче не было. Она сбивалась с огородной тропы и едва не упала, и я едва удержал её грузное тело.
— Как теперь жить-то, Серёженька, — произнесла она тихо. — Одна остаюсь... И от братьев твоих ни весточки. Тоже, наверное...
Когда наступило обеденное время, сели за стол, но к еде бабушка только прикоснулась, сказав, что нет аппетита, и всё пила чай с засушенной свёклой. Потом прилегла и задремала.
Очнулась она к вечеру, когда вернулась мама.
— Опять у нас горе, — сказала она, и слёзы брызнули из её глаз. — У Раисы Лексея убили. Яковлич принёс похоронку. Мы только с поля вернулись, а он у дома поджидал.
— Пойдём к ней, — со слезами на глазах произнесла бабушка и перекрестилась на образа в красном углу.
Тётю Раю окружили товарки. Снова — слёзы, вновь — утешения. Может, говорили, Алексея не убили, а ошибочка вышла. Вон, в Спирине, прислали, что «убит», а он через месяц прислал из госпиталя...
— Нет, чую сердцем, погиб Лёша, — сквозь слёзы говорила тётя Рая. — Чую...
Она закрыла лицо ладонями. И тут бабушка положила на её плечо руку.
— Крепись, матушка...
А сама еле стояла на ногах. И когда мы с ней уходили домой, тяжело вздохнув, сказала: «По себе знаю, как ей сейчас тяжело. И её горе — это и моё горе. Чужого горя, внучек, не бывает. Общее оно».
Обняла меня, и я прижался к подолу её ситцевого платья. И тут несколько жёлтых листьев клёна, словно парашютики, спустились на землю. В свои права вступала осень предпоследнего года суровой войны.
Похоронки продолжали приходить, и село не переставало реветь, орошая траву, а вскоре и снег. Семьи оставались без кормильцев. Вдовы, как могли, мыкались, стараясь из последних сил свести концы с концами, чтобы и накормить, и обогреть своих детишек. У каждой — по тройке да по пятку было. Горе и радость делили пополам. Помогали друг другу — в одиночку было не выжить. И целыми днями — в поле либо на ферме, да и ночь, случалось, прихватывали.
Это ж какой надо было обладать недюжинной силой, чтобы выдержать?! Организм — не железный, хотя железо тоже не выдерживает запредельных нагрузок. А вдовы-солдатки выдерживали! Трудились и приближали нашу Победу. А когда она пришла, радость перемешалась с горькими слезами, потому что с войны в село вернулись только четверо, из них трое —калеки, а тридцать шесть ещё совсем молодых мужиков, ушедших на фронт, остались навсегда на полях сражений и кровавых битв с лютым врагом. Колхоз совсем обносился, и его возрождали одни бабы…
Ох и хлебнули они горюшка! Что могло быть горше в то время жизни вдов? Спрятанная куда-то в дальний угол комода или стола похоронка не смягчала временем боль... Нет-нет да и жгла сердце, заставляла размышлять о своём житье-бытье, ради чего, мол, были все эти лишения и невзгоды, свалившиеся огромным грузом на их хрупкие плечи. Но они работали, растили детей. А труд был, можно сказать, бесплатный. За работу колхозникам в трудовую книжку вписывали палочки-трудодни. Поэтому и говорили: «Работаем — за палочки».
Солдатские вдовы. Подумаешь о них, и становится муторно на душе и обидно — по матери знаю — что у тебя никто не пришёл с войны. Горечь эту не выскажешь словами. «Горькая, трудная наша жизнь...» — слышал я от вдов-односельчанок. От мамы слышал и бабушек. И это правда!
Да они и не могли жить иначе. Привыкнув работать не покладая рук, без дела их руки ныли от тоски, видать, доля им выпала такая. И день, и ночь, до гробовой доски... Сколько же вынесли они на своих плечах неимоверной тяжести войны в тылу, если его так можно назвать. В этом тылу было ничуть не легче, чем на фронте. Это и был фронт. Как говорил и пронзительно писал замечательный и честнейший русский писатель Фёдор Абрамов: фронт баб, подростков и стариков. И если у нас до сих пор не удосужились воздать должное русской женщине — поставить памятник, то это сделал своим Словом писатель. Она — русская баба — достойна самых великих памятников и музеев, куда не должна зарастать народная тропа.
На эту тему я не раз разговаривал с матерью, а она удивлённо отвечала: «Какой памятник, сынок, мы же просто работали, для фронта старались, Родину спасали, вас растили...». Таков был ответ матери, и она выражала мнение и своих товарок, с которыми я тоже разговаривал на эту тему и получал однозначный ответ: за что, мол, нам памятник, мы просто работали.
Нынешнему «попсовому» поколению даже трудно себе представить то время. А я, хоть тогда и был мальцом, помню, что творилось на моих глазах. Поэтому свидетельствую: нашей Победой и нашей жизнью мы во многом обязаны труду женщин-матерей военных лет. Они положили на алтарь Победы свою молодость, здоровье, красоту и личную жизнь... Это — святое поколение мучениц и подвижниц, совестливых и беззаветно преданных родному Отечеству.
Я часто слышал, как кто-то из них то ли в шутку, то ли всерьёз тогда говорил: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Так оно и было! Испытания войны, похоронки их не озлобили и не сломили, а сплотили в дружную, заботливую семью, в которой не было чужого горя. И в жизни они следовали Божьей заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Вечная им память!
Николай ОФИТОВ